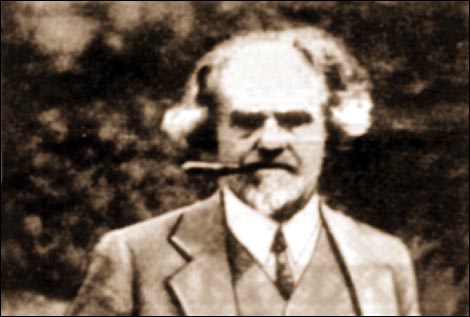М.В. Силантьева. И. Кант и Н. Бердяев: диалектика в трех измерениях
Как известно, слово «диалектика» восходит к древнегреческому «диалегомай», что означает – рассуждать. Диалектикой в истории культуры означали и искусство вести беседу, и сам способ существования Абсолюта, и даже «логику вещей»…
Особый интерес в контексте проблемы восприятия философии И. Канта другими культурами (в частности, русской) представляет сравнение двух подходов к диалектике, связанных с именами, с одной стороны, И. Канта и, с другой стороны, Н.А. Бердяева. Сравнение это поначалу видится довольно натянутым, условным, сотканным из очередных причудливых исканий «игроков» современного философского поля. Однако, при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что Кант оказал на становление самостоятельной философской позиции Бердяева едва ли не решающее влияние. Рассуждения великого немца для Бердяева – постоянный источник вдохновения и отталкивания [2, 67], причем русский философ хорошо знает и ценит философское credo Канта, особенно – разработку диалектики чистого разума [4, 7-8, 234]
Если же вспомнить название нового философского метода, предложенного Н.А. Бердяевым, – «экзистенциальная диалектика», – и сравнить его со структурой «Критики чистого разума», то становится понятно: ход рассуждений Бердяева изначально строится как позиционирование по отношению к методу Канта. Напомним: экзистенциальная диалектика претендует на роль нового всеобъемлющего философского метода в новейшее время. Метода, который призван «спасти» рационализм («диалектика») – но не утратить при этом живую связь с реальностью, жизнью («экзистенциальность»). Речь идет об изменении «гносеологической» ориентации философии (связанной, конечно же, с кантовским трансцендентализмом) на ориентацию экзистенциалистскую.
Аанти-гносеологизм, помимо прочего, предполагает преодоление субъект-объктной призмы, искажающей познание, и экзистенциальное видение этого процесса как творческого постижения действительности-истины. Здесь Бердяев также опирается на Канта: ведь именно Кант рассмотрел субъект и объект не как противостоящие друг другу элементы реальности, а как парные «технические» (т.е. с экзистенциальной точки зрения условные, мнимые) категории, возникающие на определенном этапе познания и на определенном его этапе исчезающие. Ссылаясь на Канта, Бердяев так описывает субъект-объектный метод: «Бытие, как объект, бытие универсально-общего, – есть конструкция субъекта при известной направленности его активности» [2, 67]. Активность эта связана с «раздвоением» сознания на коррелятивную пару «субъект-объект», связанное с мифическим событием грехопадения и отклоняющим волю человека от познания истины – в сторону познания предмета [1, 8].
В самом начале книги «О рабстве и свободе человека» Бердяев сообщает: «с Кантом я даже боролся», но «есть определяющие идеи, которые в той или иной форме присутствовали на всем протяжении моего философского пути» [2, 13]. Среди них, по собственному признанию, «положительно» воспринятыми оказались: дуализм Канта; его различение царства свободы и царства природы; учение о свободе умопостигаемого характера и кантовский волюнтаризм; отличие мира явлений от подлинного мира (который Кант «неудачно» назвал вещью в себе).
Необходимо подчеркнуть: «дуализм» здесь означает не более того, что он означал у Декарта, или, допустим, Парменида: существуют «параллельные миры» природы и мышления, духа. Единственно возможным гарантом их параллелизма и единым источником существования предстает Бог. По Канту, как и по Бердяеву, нельзя говорить о множественном (двойном, энном) источнике существования. По Бердяеву, нельзя так же говорить о разных существованиях – существование одно, но имеет разные проекции, из которых одна подменяет другую в случае неудачного ракурса рассмотрения, – такого, например, как рассмотрение «из мира явлений», «царства природы». В свою очередь, подлинный мир, «царство свободы», – детерминирован только самим собой. Человек по праву рождения имеет здесь гражданство – он может «начинать цепь причинения» с себя, поступая свободно (т.е. не будучи «определяем» ни телесно, ни психологически, ни социально, – а лишь морально). В этом и состоит кантовский волюнтаризм.
Крупной «неудачей» Канта Бердяев считает то, что он «закрыл путь познания подлинного мира существования, отличного от мира явлений, в его философии почти отсутствует категория духа» [2, 13].
Главная же находка Канта, на которую опирается Бердяев, – это, как ни странно, именно трансцендентализм[1], который, по мнению русского философа должен быть продолжен в определенном направлении[2]. Для того, чтобы понять, каковы же пути намеченного «продолжения», позволим себе вкратце напомнить основные позиции кантовского трансцендентализма.
В этой сфере философские находки Канта видятся Бердяеву, прежде всего, в свете общей линии философии, которая с момента своего рождения в античности стремилась (средствами разума) показать ему, разуму, его собственную ограниченность, «конечность», – и бесперспективность претензий на полноту истины. Кант развернул подобную «классическую» работу на основе тех концептов, которые усвоила философия в Новое время, о чем свидетельствует «Критика чистого разума». Это, прежде всего, концепт опыта как границы сознания. Границы – т.е. чего-то, что принципиально отличается от самого сознания как такового, хотя и «захватывает» его. С точки зрения трансцендентализма возможно описать структуру сознания изнутри, вплоть до самой этой границы (ее можно описать, соответственно, лишь частично, – в той мере, в какой она проявляется на «стыке» с сознанием). Об опыте в аспекте «заграницы», по Канту, можно достоверно утверждать лишь то, что «вещь сама по себе», во-первых, существует; во-вторых, «аффицирует» наше сознание. Аффицирует – т.е. «толкает», «касаясь» (аристотелевское tigein, касание разума и «беспредпосылочного начала») [5]. Данное воздействие «включает» оформительскую деятельность разума – он приводит в порядок тот хаотический материал, который присутствует в опытной границе и который в полной мере не может, не будучи определенным образом преобразованным, принадлежать разуму.
«Оформление», как известно, проходит три основных стадии преобразования. Это чувственность, рассудок и разум. Соответственно, описание этих ступеней ведется Кантом при помощи трансцендентальной эстетики, и трансцендентальной логики, распадающейся на трансцендентальную аналитику (анализ деятельности рассудка) и трансцендентальную диалектику (анализ деятельности разума).
Трансцендентальная эстетика обосновывает научный (т.е. базирующийся на априорных синтетических суждениях) характер математики, трансцендентальная аналитика – естествознания; а трансцендентальная диалектика показывает, что метафизика наукой быть не может в силу принципиально парадоксальности (и, следовательно, не научности, не-логичности, связанной с нарушением закона тождества и непротиворечия, своих построений).
Для самого Канта очевидно, что идеи чистого разума (о мире, Боге и душе) не подлежат научному, доказательному (на уровне феноменов), логосу [4, 234, 236]. Их логос особый – это логос диалектический, относящийся к ноуменальным событиям. С одной стороны, идеи в «Критике чистого разума» названы «играющими регулятивную роль» в деятельности сознания. Это значит, что они не только задают ее основные направления и параметры, но и играют структурообразующую роль с точки зрения «выстроенности» самого сознания, описанной трансцендентальной философией «изнутри». Последнее не следует путать с «конститутивной ролью» идей, о которой идет речь в «Критике практического разума». Конститутивность шире, чем структурообразование. Она включает в себя креативный момент создания «своего мира»[3], который по Канту, безусловно, создается человеком на уровне принятия решений в сфере нравственности [6].
Здесь, как полагает Бердяев, присутствует та недосказанность Канта, на которой русский философ выстраивает основную цепь своих рассуждений. Фактически, смысл экзистенциальной диалектики состоит в продолжении кантовской линии трансцендентальной диалектики в сторону обоснования конститутивной роли идей, – которое возможно только как экзистенциальное, а не логическое [4, 9]. Это значит, что философия (метафизика) возможна – еще более возможна, чем наука. Но она требует особого рода знания, – не похожего на традиционно относимое к познанию, – научное. Такое знание не случайно было названо «знанием моралью» (Т.А. Кузьмина). Бердяев подчеркивает, что познание «просветляет» существование человека [1, 4] при этом оно неизбежно носит этический характер [1, 16].
Бердяев полагает, что прыжок, совершенный Кантом в признании границ разума (и освобождения места вере[4]) недостаточен, поскольку в данном случае не сделан последний (из возможных) логический (т.е. связанный с обоснованием) шаг: не утверждается пограничный характер самой веры (т.е. ее частичная вовлеченность не только в опыт, но и в разумное состояние).
Более того. Согласно Бердяеву, от трансцендентализма необходимо перейти к трансцендированию, если мы хотим перейти от исследования конструкций своего сознания – к жизни в истине и по истине.
Бердяев подчеркивает, что «целостная истина есть не отражение или соответствие реальности мира, а тождество смысла мира» [3, 11-12]. Она не есть прагматическое соответствие суждения – объекту (вообще, «объективная истина» – это философский нонсенс [4, 9; 56], замешанный на ошибке редукционизма). Тем более она не есть «объективно-идеалистическое» (читай – гегельянское) соответствие разума – самому себе. Но тогда – что?… Бердяев пишет: «Истина не есть пребывание в замкнутой мысли, в безвыходном круге сознания, она есть размыкание и раскрытие. Истина не объективна, она транссубъективна» [3, 11-12]. Истина есть «выход к трансцендентному» [3, 12]. Поэтому транссубъективность следует интерпретировать здесь и как «превосхождение субъективности «третьим миром» духовности» [1, 11] и как ««межсубъектная» соборная активность» [1, 181].
В отношении понимания истины Бердяев вполне согласен с Кантом-автором «Критика практического разума»: истина человеческого существования принадлежит сфере морали и выявляется актом оценки, а не выработкой рационального понятия. Только в акте оценки (а он направлен на выяснение соотношения принятого решения – и свободы) может быть преодолена «падшесть мира, сдавленного логическими законами», – прежде всего, законом тождества. Подлинная мораль может быть «основана» только на свободе. Логическая же обязательность в формальном ее смысле, напоминает Бердяев, «носит социологический характер», – а вовсе не есть выражение истины [3, 11-12].
В свою очередь, сфера «знания моралью», этика, строится, как полагает Бердяев, на оценке как экзистенциальном акте; «имеет дело не с бессильными, висящими в воздухе нормами и законами, а с реальными нравственными энергиями и обладающими силой качествами». Потому этика совпадает с онтологией [1, 19] если понимать оба эти слова динамически[5], с точки зрения экзистенциальной диалектики.
Этика предполагает некое «духовное усилие» [4, 229] творческое и свободное. Его невозможно «разложить» по алгоритму, но возможно описать – как «толчок», ориентирующий человека по азимуту духовного центра. Оно не просто неразрывно связано с моралью. Бердяев утверждает, что мораль и есть такое усилие; они тождественны. Суть свободы, как и суть творчества – усилие быть. Поэтому, кстати, сфера «чистого творчества», по Бердяеву, отнюдь не искусство, как принято думать, – а мораль. [7, 121] Искусство скорее – лаборатория, а потому оно далеко от существования и его насущных экзистенциальных проблем [1, 177]. Сама «искусственность» искусства ограничивает его рамки. Оно – более или менее опасная забава, имеющая, как правило, экзистенциальные задачи, – но исполняющая их только тогда, когда осознана «моральная цена» его находок (присутствующая, впрочем, – вольно или невольно, – всегда).
Мораль же, этот «след свободы в мире природы» (Кант) – тот внутренний компас, который, как магнит, «врожден» человеку и ориентирует его в сторону вечного Абсолюта (другое дело, что, имея компас, далеко не всегда его используют).
Что может быть для современного человека привычнее, обыденнее морали? И что может быть трансцендентнее ее? Ведь каждый раз, применяя ту или иную моральную норму, человек делает «шаг в пропасть» свободы – решая, как, собственно, применить данное общее и абстрактное положение к конкретной, живой ситуации своего существования. Мораль, таким образом, – скорее некое чувство, чутье, связывающее человека с Абсолютом (вспомним, что слово «этика» происходит от древнегреческого «этос» – исходно «логово», «нора»). Человек чует Иное как свое. Родное…
Основа морали – не страх оказаться «не как все». Напротив, она учит преодолевать страх, в том числе и этот. В морали действительно «просвечивает» открывающийся Абсолют во всей фундаментальности – вечности, но не не-изменности – своего присутствия. Такая вечность моральных ценностей и есть очевидное наполнение духовное наполнение обыденной человеческой жизни.
Обыденность предстает, таким образом, как «канал связи» духовного ядра – с наличным человеческим существованием. Канал, внутри которого мерцает, переливается, играет потаенная глубина динамики Абсолюта. Завороженность этой игрой часто уводит в дебри метаний по искривленной поверхности того или иного экзистенциального уровня. Бердяев пишет, что человеческое существование не терпит пустоты. И там, где оно не заполнено духовной деятельностью, оно заполняет сознание фантомами псевдо-деятельности [1, 146-147].
Философия Бердяева делает попытку «органически», чутьем, моралью (и здесь, несомненно, колоссальное влияние Канта) нащупать тот метод, который позволяет в нужный момент «созревания» личного существования двигаться дальше в глубь экзистенции. Как? Ответ на этот вопрос дает жизнь каждого человека, рисунок его внешний и внутренних поступков. Здесь обыденность встречается с вечностью в символической загадке человеческого существования.
Еще одна идея Канта, которая глубоко впечатлила Бердяева, – это противопоставление им мира природы и мира свободы. Очевидно, что анализ научного познания привел Канта к идее всеобщей природной детерминации. Рассуждения о морали показали, что само ее присутствие в мире говорит о ней как о «следе свободы» [2, 25]. Парадоксальное соотношение этих двух сфер Бердяев, вслед за Кантом, показывает на геометрическом примере: мир природы подобен плоскости, жестко «расчерченной» сеткой детерминизма. Однако в каждой точке этой плоскости можно восстановить вертикаль духовного измерения – не очевидную, если утратить способность воспринимать «третье измерение», но от этого не менее реальную [2, 217]
Проблема соотношения мира природы и мира свободы, оставленная у Канта в «подвешенном состоянии», потребовала от Бердяева разработки особого типа «вертикального» – экзистенциального – времени.
Весьма симпатизирующий Канту, Бердяев отклонил его понимание времени как внутренней формы чувственности, систематизирующей хаотичный материал опыта.
Согласно Бердяеву, в философии есть смысл говорить о космическом, историческом и экзистенциальном времени, символами которых будут, соответственно, круг, прямая и точка. Первое связано с движением планет и отсылает нас к предметности и ориентации в ней. Второе отсчитывает ход развития общества от рождения человечества до его конца. А третье, экзистенциальное, время описывает действие свободы в человеческом существе.
Экзистенциальное время – не время в полном смысле, поскольку его «краткие мгновения» психологически могут переживаться как бесконечность [2, 212]. Но оно не есть сама вечность, – а лишь «выход» к ней. Оно «атом вечности, а не атом времени», длительность которого «зависит от напряженности переживаний внутри человеческого существования» [2, 216].
Экзистенциальное время – это собственная человеческая открытость и свобода; это способность «передвигаться от периферии к центру» духовного процесса, приближаться к «горячему экзистенциальному ядру» собственной личности.
Здесь было бы нелишним вспомнить, что, согласно Бердяеву, личность – это «собранность в себе», самосознание, отличающая человека от животных и имеющая своим основанием специфическую черту духовного ядра самого Абсолюта. Бердяев считает: если об абсолюте и можно что-то сказать, так это то, что он – личность. Причем в человеческом существовании личность может объективироваться, «вываливаться» в мир объектов – т.е. уподобляться предмету, – которым на самом деле не является. Такой процесс превращает личность в индивидуальность, чье существование безосновно, никак не связано с экзистенциальным центром. Индивидуализация преследует человека на каждом шагу. Любые формы сведения себя к социальным, психологическим, биологическим и любым другим характеристикам есть признак индивидуализации. Более того, индивидуализация совпадает с рабством человека у объективаций (т.е. имеющих место в наличном существовании искажений прямого видения истины).
Не стоит, однако, думать, что можно запросто освободиться от подобного рабства. Все люди, полагает Бердяев, так или иначе вовлечены в те или иные его формы. Причем по мере освобождения человека поджидают все более изощренные ловушки. Так, рабство у чувственных удовольствий закоренелого гедониста выглядит невинной детской забавой по сравнению с рабством добросовестного политика у идеи общественной справедливости или рабством философа у абстрактных понятий [2, 99-105]. Худшая формы индивидуализации и, соответственно, рабства – эгоцентризм, замкнутость на себя, из которой уже нет выхода ни к какой открытости, ни к какому экзистенциальному ядру. Здесь уже нет речи ни о каком Абсолюте – «абсолютом» эгоцентрик становится для себя сам. Соответственно, он теряет способность слышать – допускать равнозначное с самим собой существование другого. Отсюда, кстати, так вдохновившая историков философии идея перестройки метафорического ряда современной философии: если древние греки говорили об умозрении, то теперь говорят о способности слышать. Не потому ли, что способности видеть остается все меньше? Как говорил Бердяев [4, 76] повторяя Августина, взросление человечества сопровождается все большими испытаниями… впрочем, сам Бердяев предлагает иное слово для философского схватывания – «чутье».
Экзистенциализм позволяет признать совместимость разума и опыта, знания и веры по факту существования. Это дает возможность обосновать («диалектика») противоречие как вариант логоса, а не как его извращение. Вариант, возможно более «естественный», чем логос науки – еще Адам, давая в раю имена по заданию Бога, утверждал совпадение вербального с предметным по смысловому основанию. Этот миф («сказание») отсылает нас к мифологическому прочтению любого «знакового» события. Ни платоновская пещера, ни общественный договор Гоббса никогда не имели места в истории как некие уникальные «доподлинные» события. Однако они, несомненно, состоялись на уровне «онтологического события» (Н. Бердяев), – и в этом смысле предстают ничуть не менее весомыми, чем битвы и царствования, имевшие место в прошлом человечества.
Заметим: в наше время все заметнее набирает силу тенденция к мифологизации массового сознания в форме «расползания» гиперкритики (например, так называемое «новое прочтение истории» Филатова), по сути представляющая собой некий «эмпирический вариант» экзистенциальной диалектики. В силу своей философской наивности подобные попытки остаются, как правило, вне поля серьезного философского анализа. Но их появление симптоматично. Поэтому важно подчеркнуть особенности «серьезной» экзистенциальной диалектики. Во-первых, для этого метода наличие собственной убежденности в правоте того или иного положения не является не только гарантией, но и вообще элементом логической связки («вера» должна быть рассмотрена в соотношении с разумом). Бирка стопроцентной убедительности скорее, в духе Канта, отсылает нас к лицу с преобладанием склонности над долгом, что вообще выводит за скобки всякий вопрос об истине, идеях и диалектике. С другой стороны, «несомненность», декартова «очевидность», все же является элементом логической связки «второго порядка», – когда она сопряжена с моральным творчеством и действительным предстоянием перед Богом. Такое предстояние должно стать последовательным диалектическим элиминированием всех «объективаций», связанных с «трехмерностью» наличного человеческого существования, «сбивающей» восприятие «четвертого измерения» – духовной вертикали…
Итак, что же все-таки предлагает Бердяев «добавить» к традиционному пониманию философии Канта, дабы открытие свободы не оставалось умозрительным и потому бессильным знанием, а превратилось в энергию творческого горения духа, способного (вполне в духе раннего Маркса) изменить мир?
Ответ в свете сказанного выше довольно очевиден. Это «расширенное» токование кантовской диалектики, требующее на уровне теоретического (а не только практического) разума признания конститутивной роли идей, – что, собственно, и есть расширение сферы полномочий теоретического разума за счет «допущения» его в сферу свободы, практического разума. Таким образом эти две относительно самостоятельные (по Канту) способности встраиваются Бердяевым в единую целостную систему «живого существования» (что, как подчеркивают знатоки русской философии, характерно для нее чуть ли не с момента возникновения древнерусского государства). Именно это позволит превратить гносеологию – в онтологию, а трансцендентальную диалектику – в экзистенциальную.
Итак, именно кантовский трансцендентализм как форма гносеологизма должен быть, как полагает Бердяев, преодолен путем поглощения, – чтобы свобода была спасена как факт нашего существования, способный изменить нас; способствующий такому изменению нашего существа, которое было бы настоящим. А не «сослагательно»-формальным…
Список литературы:
- Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. P.: YMCA-PRESS, 1937.
- Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. P.: YMCA-PRESS, 1939.
- Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. P.: YMCA-PRESS, 1951.
- Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. P.: YMCA-PRESS, 1952.
- Доброхотов А.Л. ««Беспредпосылочное начало» в философии Платона и Канта» // Историко-философский ежегодник, 1987. – М.: Наука, 1987.
- Кузьмина Т.А. Концепция свободы в этике Канта.//Этика Канта и современность. Рига: Автос, 1989.
- Силантьева М.В. Экзистенциально-диалектические проблемы этики творчества Николая Бердяева. М., 2002.
Данная статья впервые была опубликована в сборнике «Кант между Западом и Востоком» (2005):
Силантьева М.В. И. Кант и Н. Бердяев: диалектика в трех измерениях// Кант между Западом и Востоком. К 200-летию со дня смерти и 280-летию со дня рождения Иммануила Канта: Труды международного семинара и международной конференции: В 2 ч./ Под ред. В.Н. Брюшинкина. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. Ч.I. C. 123 – 133.
[1] Критика трансцендентализма ведется Бердяевым как раз по линии его «остановки» на «субъект-объектной конструкции» [3, 11].
2 Не по линии феноменологического интереса к феноменам, а по линии экзистенциального интереса к ноуменам (см. [3, 10]). Феноменолог «лишь пассивно впускает в себя бытие», а ведь это и есть столь нелюбимый им «психологизм». Надо – творчески духовно действовать…).
[3] Не в смысле «частного», удельного существования; а в смысле «принятия» свободного решения «быть», «быть человеком».
[4] Напомним: вере, понимаемой Бердяевым как экзистенциальное доверие к познавательному раскрытию человеком существования в самом себе как носителе духовного, «вертикального» измерения. [1, 217].
[5] Бердяев пишет: «Смысл не в объекте, входящем в мысль, и не в субъекте, конструирующем свой мир, а в третьей, не объективной и не субъективной сфере, в духовном мире, в духовной жизни, где все активность и духовная динамика. Если познание происходит с бытием, то в нем активно обнаруживается смысл, т.е. просветление тьмы бытия» [3, 11].