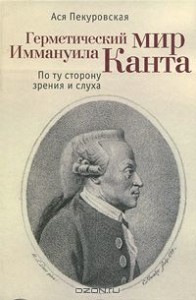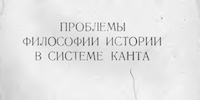Ася Пекуровская. Герметический мир Иммануила Канта. По ту сторону зрения и слуха. Препринт
Считается политически верным восхвалять автора, не понимая его. Это – общая судьба всех великих людей. Моей задачей является обратное. Я хочу понять его, но обращаться с ним с таким же малым почтением, как если бы он был современным адвокатом тоталитарного строя.
Бертран Рассел
Платон всегда старался быть на страже взглядов, призванных, по его мысли, защищать добродетель. Едва ли он был когда-нибудь интеллектуально честен, ибо всегда оценивал доктрины по их влиянию на социум. Но даже и в этом он не был честен, так как претендовал на то, чтобы приводить доводы и судить на основании чисто теоретических критериев, тогда как фактически направлял (twisted) спор так, чтобы он заканчивался победой добродетели. Он ввел этот порок в философию, где он с тех пор и продолжает существовать <…> Один из недостатков всех философов со времен Платона заключается в том, что их исследования в области этики исходили из предпосылки, что выводы, к которым им предстоит придти, им уже известны.
Бертран Рассел
Читать предисловие я привыкла в конце, да и то не всегда. Желание возникает, когда книга уже завоевала сердце, проникла под кожу. Так что предисловие становится отсылкой не к книге, а к тому, что остается после, к ощущениям, посеянным автором, к его прихотям, привычкам, желаниям, поступившим к тебе во владение и теперь оставшимся с тобой навсегда. Но может ли это означать, что предисловие выполняет функцию послесловия? Едва ли, ибо послесловия, кажется, пишутся в минуты авторского отчаяния, когда мысль о конце книги не может быть приведена в соответствие с уже определившимся стилем и ритмом. Стоит припомнить “Преступление и наказание”. Приводилось ли кому-либо встретить читателя этого популярнейшего романа, который мог бы довериться своей памяти, указав на то, о чем написано послесловие? Тут, кажется, все ясно. Но если сам являешься автором, размышляющим над предисловием уже после, оставив позади все, что хотел рассказать читателю в книге, задача усложняется. О чем и как писать?
Поместив “Предисловие автора” в середину книги, рассказчик Лоуренсa Стерна прибегает к оговоркам, допущениям, предпосылкам, т.е. ко всему тому, что призвано спасти сочинение от непонимания, неприятия, недоброжелательства, от которых всего один шаг до поношения и похоронного звона. Так, вероятно, обстояло дело с авторскими амбициями в XVIII веке в Англии. Так, кажется, обстоит дело и сегодня в России, в Америке или в Германии. Городские пейзажи сменяются скалистым ландшафтом, небесная гладь затягивается корсетом из свинца и олова, модернизму перебегает дорогу постмодернизм, перестройка рушится, как карточный домик, отдавив ноги и руки помпадурам и помпадуршам, а автор все продолжает трепетать перед читателем, ожидающим от сочинения, свалившегося на него с полки печатного (печального?) небытия, огромной меры мировой скорби и мудрости, равно как и малой толики дерзости. Из этой взрывной смеси он, кажется, привык строить свой образ достоверности, без которой никто не соглашается даровать сочинителю право дышать воздухом демократических свобод, которого так долго и так безуспешно могло добиваться наше дорогое отечество.
– А для кого вы, собственно говоря, стараетесь? – слышу я строгий голос воображаемого издателя. – На благо какого читателя могли вы пожелать изловчиться и накропать без малого 600 страниц сомнительного текста?
Мне конечно же хотелось сказать издателю, что кропала все эти страницы исключительно для себя. Ведь писать для себя, если верить читателю Шопенгауэра Ницше, как раз и есть единственный способ избежать подделки и обмана (1). Но пожелай я писать для себя, – тут же возразил мне голос из собственного хора, – стоило ли тогда беспокоить почтенного издателя, пусть даже и воображаемого?
– Читатель мой, – вдруг услышала я ответ из тайников собственного подсознания, – это человек любознательный, имеющий к чтению определенное пристрастие и готовый вместе со мной пройти нелегкий путь толкования текстов, столетиями принимавшихся на веру профессиональными философами.
– Но как раз Канта ваш читатель, по всей видимости, прочитать не удосужился. Не так ли? – говорит мне строгий издатель.
– Тут дело не в том, читал ли мой читатель Канта… – слышу я собственное возражение, которому не суждено было быть доведенным до завершения.
– Как человек, профессионально занимавшийся философией, – перебивает меня мой собеседник, – я заметил, что вы заняли по отношению к Канту позицию судебного обвинителя. Вы упрямо отказываетесь читать его в согласии с им же предписанным протоколом.
– А на каком основании автор может мне, читателю, предписывать свой протокол? – пронеслось у меня в голове. К тому же сам Кант мог взять это слово из словаря судебной практики. А коли так, почему бы его не читать по законам суда и следствия? На эту тему у меня написана целая глава. Там как раз речь идет об этом основании тоталитарных правителей и их слуг, в числе которых, полагаю, было немало философов, навязывать читателю тот или иной протокол (порядок? законодательство? менталитет?). Но интересно, стал бы мой издатель, – потекла моя мысль дальше, кичиться своей философской принадлежностью, знай он доподлинно, что именно из-за нее как раз и разгорелся сыр-бор? Разве софисты, триумфально поверженные “рациональным” Сократом, не были профессорами философии и риторики (тогда эти две игрушки лежали в одном ящике)? Другое дело, что, умей древние греки отличать философов от софистов, им вряд ли бы мог понадобиться “протокол”. А протокол, кажется, требовал называть философами тех, кто, в отличие от софистов, мог раздаривать свою мудрость безвоздмездно. Так что, унаследовав капитал от своего родителя или про-родителя, всякий софист мог уже, ссылаясь на протокол античности, называть себя свободным философом. “Польза университетской философии, – мог писать он, – перевешивается тем вредом, который философия как профессия причиняет философии как свободному исканию истины”(2), ибо польза эта, по мысли этого счастливого наследника, могла заключаться лишь в способности почитать “ценным пустое и пошлоe” (3). Вот как могло обстоять дело с протоколами в ходе двадцати с лишним столетий, отделявших Сократа от Шопенгауэра. Но эти мысли я благоразумно оставила за скобками.
– А между тем главная идея Канта, примат разума, – катит свою бочку воображаемый издатель, – остается до сего дня едва ли не самой востребованной, самой актуальной, и я не раз порывался вслед за Кантом приложить к этой идее мерило критической мысли.
Конечно, можно было бы напомнить моему собеседнику, что под “приматом” разума Кант мог иметь в виду лишь “примат практического разума”, к которому он мог прибегнуть лишь ввиду неадекватности этого понятия для критики чистого разума, а востребованность самого Канта могла расти лишь по мере популярности его критиков – Гердера, Фихте, Гегеля и т.д. Его же собственное влияние на умы, кажется, оставалось не по ранжиру скромным (4). И в центре этой невостребованности могла как раз оказаться идея примата (автономии?, гегемонии? приоритета?, наконец, изначальности?) разума, этой едва ли не самой удачной фантазии Канта (5). И если ему все же удалось закрепить за собой титул рационалиста, в этом ему мог помочь лишь счастливо найденный для разума эпитет “чистый” (6). Припомним, что и Сократ мог до поры до времени наслаждаться репутацией мыслителя, способного одним движением чистого разума опровергнуть любое эмпирическое (рассудочное?) правило. Но вот явились новые читатели – Ницше, Рассел, Деррида, а в числе наших соотечественников – Шестов и даже Набоков, и метод Сократа (его пресловутая диалектика, о которой еще пойдет речь) мог затрещать по швам. Могла затрещать по швам и кантовская идея “чистого разума”, стоило только сделать о ней запрос за пределами им обозначенного “протокола” (не символической ли конструкции, принятой на веру “профессиональными философами”?). И именно на этом по-швам-трещании мне довелось сфокусироваться в моей работе. И потому-то мне вовсе не важно, был ли знаком мой читатель с Кантом до того, как открыл мою книгу. Меня вполне устраивает обратный порядок, при котором читатель пожелал бы взять в руки Канта, уже прочитав мою книгу. Ведь и меня к чтению таких авторов, как Лейбниц, Юм, Спиноза, Декарт обратила плеяда пост-модернистов в лице Деррида, Гадамера, Рикера и т.д.
Последнюю мысль я, кажется, произнесла вслух.
– Я, кажется, нашел дорогу к вашим амбициям. Вам не терпится поставить свое имя рядом с именами, завоевавшими безусловное читательское признание. Но нетерпение я бы не отнес к достоинствам сочинителя, – слышу я подобревший голос собеседника, кажется, довольного своей проницательностью.
– Ваша догадка всего лишь означает, что вы не являетесь моим читателем. Ведь соглашение возможно лишь тогда, когда убеждаемый пришел к убеждению самостоятельно, – сказала я, почувствовав острое желание процитировать страстный монолог Ницше: “Там, где были могущественные общества, правительства, религии, общественные мнения, – короче, где господствовала всякого рода тирания, там ненавидели одинокого философа. Ведь философия открывает человеку убежище, в которое никакая тирания не может проникнуть” (7).
– Вот вы фокусируетесь на детских травмах, образе жизни, окружении, пристрастиях и аппетитах философа. Но какое отношение ко всему этому может иметь его философская мысль? – продолжает настаивать мой собеседник.
– Конечно, “мысль” можно понимать как Логос, т.е. в общем и редуцированном виде, как, скажем, понимал ее Сократ (я довольно подробно останавливаюсь на этой проблеме, анализируя несколько его диалогов, включая диалог с Традимахом) и как, осмелюсь предположить, понимаете ее Вы. Для меня же мысль всегда фрагментарна, ибо складывается она из многоголосицы настроений, ощущений, аппетитов, включая сексуальный, из впечатлений, амбиций, желаний и т.д., и здесь не обойтись без оглядки на детские травмы, образ жизни, окружение, пристрастия и аппетит философа. Короче, для меня мысль есть лишь изнанка мысли, всегда знаковая даже у таких логоцентрических авторов, как Сократ или, скажем, Кант. Конечно, я говорю с пост-модернистской позиции, которой чужда редукция мысли до какого-то ядра или абстракции…
– Но постмодернизм, – воодушевленно заметил мой собеседник, – представленный такими именами, как Деррида, Фуко, Делез, был всего лишь хвостом кометы, возникшей лет 20 назад и сейчас уже почти никем не наблюдаемой.
В 1975 году, когда произошло мое знакомство с Деррида (на философском семинаре в Шарлоттсвилле, в Вирджинии), – подумала я, – Деррида был звездой университетских семинаров, что не мешало ему оставаться непризнанным в собственном отечестве. Сейчас, т.е., как водится, уже посмертно, он стал одним из самых читаемых авторов в Европе, оставаясь мыслителем первой величины в Америке, хотя, вероятно, ему далеко до того, чтобы стать автором, способным занять умы делового российского читателя.
– Я бы воздержалась от сравнения таких несоизмеримых величин, как Деррида, Фуко и Делез, – ответила я, оставив при себе тридцатилетнюю историю моего пристрастного внимания к творчеству Жака Деррида, но мне все же хотелось бы оспорить ваше замечание о постмодернизме. Ведь именно ему человечество обязано открытием функций языка, позволивших заново прочитать тексты, на протяжение тысячелетий передававшиеся от читателя к читателю, как стершиеся монеты. Этому вопросу уделено немало страниц в моей работе.
– А позвольте вас спросить, – сухо сказал мой воображаемый издатель, видно, уже готовясь закончить наш бесперспективный диалог, – а откуда берется ваша уверенность? Какова собственно, ваша квалификация? Получен ли вами тот минимум знаний, который предлагается у нас на философских факультетах?
Конечно, подчеркнув неадекватность моей филологической подготовки, мой оппонент мог поздравить себя с триумфальным завершением беседы, если бы не память о том, что филологом, по свидетельству сокурсника, был сам Кант и конечно же Ницше, ни от кого этого не скрывавший. А помимо этого, разве свою квалификацию автор не предъявляет налично, в собственных работах, как это делали едва ли не все самостоятельно мыслящие философы: Аристотель, Эпикур, Спиноза, Лейбниц, Декарт, Юм и, кажется, даже Ньютон? Ведь “искони очень немногие философы становились профессорами философии и <…> еще меньше профессоров философии были философами; можно было бы сказать, что, как идеоэлектрические тела не бывают проводниками электричества, так и философы не бывают профессорами философии. Ведь эта профессия, кажется, более, чем всякая другая, не пригодна для самостоятельного мышления. Ибо кафедра философии, в известном смысле, – место публичной исповеди, где человек coram populo излагает свой символ веры. Но ничто так не препятствует реальному достижению фундаментальных или истинно-глубоких воззрений, т.е. выработке подлинной мудрости, как постоянная обязанность казаться мудрым, выставление напоказ перед любознательными учениками мнимых знаний и готовых ответов на любые вопросы. А всего хуже то, что при всякой мысли, какая только может в нем шевельнуться, человек в этом положении уже начинает тревожиться заботой о том, насколько его мысль согласуется с видами начальства: это так парализует его мышление, что в конце концов у него уже нехватает смелости на какую-либо мысль. Истине необходима атмосфера свободы” (8). Ведь послужной список создается в ученом мире лишь затем, чтобы прикрыть собственную неплодотворность (9). И пока эти мысли формулировались в моем сознании, мне пришло в голову, что ретроспективно Канту было не раз отказано в звании философа именно из-за его слепого следования университетскому канону (быть может, протоколу или законодательству?) (10). Ибо где, если не в стенах прославленной академии, может человек приучиться видеть “себя в свете чужих мнений”, т.е. “и в себе не видeть ничего, кроме чужих мнений” (11)?
– Ведь получи вы систематическое образование в философии, Вы вряд ли осмелились бы отказать Канту в величии мысли. Но, может быть, с самой категорией величия вы, как и многие западные люди, оказались не в ладах?
Конечно, не заговори мой собеседник о категории “величия”, мне вряд ли пришла бы в голову мысль вообще рассматривать нечто подобное. Ведь ни у Аристотеля, ни даже в расширенном списке категорий Канта для “величия” не отыскалось даже самого скромного закутка. И тут меня осенило. Ведь вся моя сознательная жизнь протекала под знаком величия: величия нашей нации, наших вождей, нашей армии, научных открытий, трудовых подвигов, коммунистических идей и так далее. О величии соседних наций, вождей, армий и т.д. твердили их великие представители – Гитлер, Муссолини, Франко. Но откуда могли черпать свои идеи о величии эти великие предводители и пророки, как не из философских трактатов? “Человечество должно неустанно работать над созданием отдельных великих людей, и в этом, а не в чем ином, заключается его задача” (12), – цитировал Ницше Шопенгауэра, уточнив эту мысль последующим комментарием (13). А несколько десятилетий спустя, уже приняв ректорство Фрейбургского университета и членство в нацистской партии, великий философ нашего времени обронил такую фразу: “Не правила из учебников и идеи управляют вашим бытием. Фюрер сам – и только он – есть сегодняшняя немецкая действительность и ее закон”. Конечно, давая 23 сентября 1966 г. интервью журналистам “Шпигеля”, П.Аугштейну и Г.Вольфу, Хайдеггер отклонил большинство обвинений и, кажется, построил свою едва ли не часовую защиту весьма убедительно. Но когда к нему поступили вопросы, касающиеся исключительно области философии, он неожиданно повторил воззрения тридцатых годов, которые только что триумфально отверг. “Самая большая беда мышления”, заявил он, заключается в том, “что сегодня, насколько я могу видеть, мы еще не слышим мыслителя, который был бы достаточно велик, чтобы непосредственным и отчетливым образом повернуть мышление к его собственному делу и тем самым вывести его на дорогу”. Кажется, Хайдеггеру все же нехватало в современной философии лидирующей фигуры, своего рода предводителя и пророка, вождя, фюрера, возможно, даже Канта. А между тем, для другого читателя, расставляющего в текстах Канта другие акценты, картина могла выглядеть иначе.
Кант был движим двумя фундаментальными желаниями: “утвердиться в стабильности рутины” и удостовериться в правоте моральных догм, которым он был обучен с детства. Неотделимым от первого желания был закон причинности, от второго – вера в будущую жизнь. Так начав свой беглый обзор наследия Канта, Бертран Рассел мог позаботиться о введении фигуры Юма, крушителя обоих кантовских желаний.
“После двенадцати лет размышлений над Юмом и его законом причинности Кант пришел к замечательному выводу. Хотя справедлива мысль о том, сказал он, что нам неизвестны причины, управляющие реальным миром, но ведь и о реальном мире нам ничего не известно. Опыт дает нам представления, которым мы приписываем свойства наподобие того, как человек, глядящий на мир через зеленые очки, которые он не в состоянии снять, уверен в том, что вещи вокруг него – зеленого цвета. И хотя феномены, которые мы узнаем из опыта, имеют в качестве причин другие феномены, нам не следует беспокоиться о реальностях, стоящих за этими феноменами. Ведь мы ничего не знаем о них из опыта. Кант соблюдал рутину, выходя каждый день в одно и то же время на прогулку и доверяя слуге следовать за ним с зонтом. Двенадцать лет, потраченных на сочинение “Критики чистого разума”, убедили старика в том, что, если пойдет дождь, зонт предохранит его от ощущениясырости, что бы ни говорил Юм о реальных дождевых каплях” (14).
Не иначе как задавшись целью исчерпать новаторский потенциал “Критики чистого разума”, Рассел счел возможным коснуться понятий “пространства” и “времени”, не забыв упомянуть, что Кант, никогда не пересекавший десятикилометровой черты Кенигсберга, мог произвести их из собственного “психического механизма”. Последующее прочтение “Критики практического разума” (второй “Критики”) могло послужить тому доказательством.
Вторая “Kритика” “начинается с предпосылки о справедливости всех моральных правил, которым его учили в детстве. (Конечно, эта предпосылка, требуя прикрытия, была введена в философский словарь под именем “категорического императива”). Из нее было выведено следствие, что воля свободна, т.к. было бы абсурдно требовать: ты должен делать то-то и то-то, если это требование превышает твои возможности. Отсюда далее следует, что существует будущая жизнь, ибо в противном случае добродетель не будет адекватно награждена, а порок адекватно наказан. Из этого далее следует, что для организации всех этих вещей нужен Бог. И если Юм мог успешно выкoрчевать идею чистого разума, моральный закон мог наконец обеспечить победу метафизикам. Кант умер счастливой смертью и был с тех пор почитаем потомками /как пророк и прорицатель – А.П./; его доктрина была даже провозглашена официальной философией нацистского государства”(15). Но нужно ли исповедовать официальную философию нацистского государства, чтобы занять по отношению к прорицателю и пророку Канту (или любому другому мыслителю его масштаба) позицию, иронически осмысленную Бертраном Расселом? Тут, вероятно, мне не обойтись без примера из собственного опыта.
Первым читателем моей книги о Достоевском, вышедшей в 2004 году, оказался известный достоевед, который, едва завершив чтение, а, может быть, и оставив его на полпути, сказал укоризненно: “Как скоропалительны вы в выводах!”. Но к кому мог относиться этот упрек? Ведь “выводов” я стараюсь не делать, так как бегу, насколько позволяют средства, того, что Лакан именовал “тотальностью символического порядка” (16). Конечно, тут мог иметь место простой перенос. Ведь ряд наблюдений, сделанных мною в работе о Достоевском, оказался вне поля зрения (и даже подозрения) всего института достоеведов. И вот, не желая признать за собой “черепашьей” скорости (мысли?), мой читатель мог пожелать обвинить в “скоропалительности” мысли меня. Но суть дела могла и не сводиться к амбициям честолюбия, ибо слово “скоропалительный”, как следовало из моего диалога с воображаемым издателем, могло послужить лишь эвфемизмом, подменяющим “отсутствие положительной позиции” (17), под которым у нас в России понимается отступление от патриотического долга, короче, преступление, которому неизменно сопутствует наказание.
Но в чем именно могло заключаться это преступление (и наказание?)? И тут мне не терпится извлечь из небытия забытого многими сочинителя, которому посчастливилось понести за указанное преступление двойное наказание, так сказать, выслушать двойной приговор – сначала от судий тоталитарного государства, а затем – от авторов “уважаемого”, надо полагать, прогрессивного, западного журнала. В памяти (18) возникает “один летний день”: “мы шли с ним по писательскому поселку Переделкино – это было давно, приблизительно в 1962-м или 1963-м году. Чтобы вам объяснить, поселок Переделкино состоит из улиц имени К.Тренева, П.Павленко (на последней, например, жил Пастернак <…>) и других видных писателей. Сказать в точном, в собственном смысле: шли по этим выдающимся улицам – было бы неправильно. Мы – нет, даже слово ползли не подходит. Хотя ему тогда, если сосчитать, было года сорок два – сорок один – приблизительно. Но так даже слепые не ходят, даже столетние старики. Он шел, едва переставляя ноги и как бы стоя все время на одном месте. И говорил очень тихо, мягко и внятно о всякой всячине – об окружающих этот писательский загончик заборах, за которыми по проволоке, на кольце, бегали взад и вперед вразумительные овчарки, охранявшие наших художников от налета какого-нибудь вора, алкоголика или вернувшегося оттуда, с Воркуты, с Колымы, давным давно забытого и погребенного оппонента.
Аркадий был из тех, из вернувшихся, из вылезших из могилы теней <…>, и шел он прямым обвинением здесь сидевших и отсиживающихся за забором писателей. Он сказал тогда <…>:
– О, эту собачку – попадись она нам тогда – мы бы быстренько съели!..
Тогда я, еще ничего не понимавший, но сочувствовавший и жаждавший правды попутчик, спросил с печалью и прижизненной наивностью:
– А вы бы ее зажарили, собаку? И как это делается на самом деле, объясните, пожалуйста.
И он мне объяснил – что ту начальственную овчарку совершенно необязательно жарить, но можно просто так – с потрохами, с кожей, сырьем – как они жрали тушканчиков <…>.
– Может быть, вам, Аркадий, неприятно вспоминать – не вспоминайте. Но, может быть, вы расскажете, как вас пытали?
И он мне все рассказал, очень охотно, легко и весело, с подробностями, как это бывает и к чему по долгу службы прибегал следователь на допросах Белинкова. И все это оказалось очень просто, господа. Никаких особенных, сверхъестественных когтей у КГБ для пыток не было и нет. Был – примус. И это было почти по домашнему – рассказывал Белинков <…>.
Когда он бежал на Запад в 1968-м году, его, говорят, упрекали в нелояльности к марксизму, а также, с другой стороны, в недостаточной вере в Россию” (19). Подчеркну здесь одну простую истину. Обвиняли – они, т.е. те, кто естественно и добровольно (по обе стороны барьера) мог поддерживать “тотальность символического порядка”, ту пресловутую “положительную позицию”, за отсутствие которой заплатили с лихвой, среди прочих, Аркадий Белинков и вспоминающий о нем Андрей Синявский. И хотя отсутствие “положительной позиции” уже (а, может быть, еще?) не учтено в законодательстве России, оно по-прежнему, и беспрепятственно, хотя и не сильно акцентированно, продолжает внедряться в литературный процесс России.
С такой преамбулой я приглашаю читателя заглянуть в “Герметический мир Иммануила Канта. По ту сторону зрения и слуха”.
Пало Алто, Калифорния, февраль 2007 г.
Примечания:
1. “Шопенгауэр никогда не хочет казаться: он пишет для себя, а никто не хочет быть обманутым, и тем более философ, который ставит себе закон: не обманывай никого и даже самого себя! <…> Столь же мало речь Шопенгауэра напоминает нам речь ученого, у которого от природы негибкие и неумелые члены и узкая грудь и который выступает поэтому угловато, неуклюже и напыщенно; тогда как, с другой стороны, неотесанная и немного медвежья душа Шопенгауэра учит нас не столько искать изящества и светской прелести хороших французских писателей, сколько пренебрегать этими качествами, и никто не найдет у него того поддельного, как бы посеребренного мнимо-французского стиля, к которому так стремятся немецкие писатели”. Friedrich Nietsche. Unzeitgemaesse Betrachtungen. Schopenhauer als Erzieher (Несвоевременные размышления. Шопенгауэр как воспитатель). Gesammelte Werke, Muenchen, 1872-1876, band 7, S. 47-48. Полагаю, что под ученым, “у которого от природы негибкие и неумелые члены и узкая грудь и который выступает поэтому угловато, неуклюже и напыщенно”, как раз и мог иметься в виду Кант.
2. Arthur Schopenhauer. Werke in fuenf Baenden. Parerga und Paralipomena. Ersten band. Zuerich, 1988. S. 141.
3. “Худшим во всей этой охоте, которая могла бы иметь продолжение для любителей курьезов, является, однако, вот что: в их интересах, чтобы пустое и пошлое принималось за ценность. А этой цели они не могли бы достигнуть, если бы появление чего-то Подлинного, Великого, Глубоко продуманного немедленно получило должное признание. А чтобы подавить его и беспрепятственно пустить в ход дурное, они, как и все слабаки, сплачиваются, образуют клики и партии, вступают во владение литературных газет, в которых, как и в собственных книгах, с глубоким благоговением и важной миной восхваляют шедевры друг друга и таким образом обводят вокруг пальца близорукую публику. В их отношении к подлинным философам сквозит отношение прежних мейстерзенгеров к поэтам”. Там же. С. 161-162.
4. “… лишь на очень немногих людей Кант вообще оказал живое влияние и преобразовал их кровь и соки. Правда, можно всюду прочитать, что своей деятельностью этот тихий ученый вызвал революцию во всех областях духовной жизни. Но я этому не верю. Я не вижу этого отчетливо у людей, которые могли бы революционизировать все так, чтобы революция захватила целые области. Но коль скоро Кант начнет оказывать действительное влияние на массовое сознание, мы обнаружим его в форме разъедающего и раздробляющего скептицизма и релятивизма; и лишь в сознании самых деятельных и благородных умов, которые никогда не впадали в сомнение, с его местом было бы связано духовное потрясение и отчаяние относительно всякой истины, какое пережил, например, Генрих Кляйст под влиянием философии Канта”. Friedrich Nietsche. Unzeitgemaesse Betrachtungen. Schopenhauer als Erzieher. Op. cit, S. С. 57.
5. Традицией, кажется, была принята на веру провозглашенная Кантом иерархия между разумом, понимаемым как способность априорно задавать принципы(?), и рассудком, т.е. способностью мыслить некое единство понятий с помощью правил. Мне же это разграничение, кажется, намеченное уже Сократом, представляется не более чем риторическим жестом, о котором еще неоднократно пойдет речь.
6. Ницше мог уподобить эту рациональность “удобному и добродушному созданию, которое непрерывно уверяет все существующие власти, что оно никому не хочет причинить никаких хлопот: ведь оно есть лишь “чистая наука”. “Итак, я хотел сказать, что немецкая философия должна все более стремиться к тому, чтобы не быть чистой наукой”, – писал он. Friedrich Nietsche. Unzeitgemaesse Betrachtungen. Schopenhauer als Erzieher. Op. cit. С. 53.
7. Friedrich Nietsche. Unzeitgemaesse Betrachtungen. Schopenhauer als Erzieher. Op. cit. С. 55.
8. Arthur Schopenhauer. Werke in fuenf Baenden. Parerga und Paralipomena. Ersten band. Op. cit. S. 152.
9. “Умеющий наблюдать да заметит, что ученый по сути – неплодотворен – и это результат его происхождения! – и что он испытывает некую исконную естественную ненависть к плодотворным людям, в связи с чем во все времена гении и ученые не могли поладить. Ведь последние хотят умерщвлять природу, разлагая и постигая ее; первые же хотят обогащать природу за счет новой живой природы: и отсюда полярность в их настроениях и роде деятельности. В счастливые времена не было нужды в ученом, и ученого не знали; в болезненные и хмурые времена его оценивали как высшего и достойнейшего человека и ставили его на первый план”. Friedrich Nietsche. Unzeitgemaesse Betrachtungen. Schopenhauer als Erzieher. Op. cit. S. 106.
10. “Кант был привязан к университету, подчинял себя правопорядку, сохранял видимость религиозной веры, терпел своих коллег и студентов; естественно поэтому, что он послужил примером, породившим университетских профессоров и профессорской философии. Шопенгауэр держит без почтения ученую касту, обособляется, добивается независимости от государства и общества, – вот его пример, его образец – в его наиболее внешнем проявлении”. Там же. С. 52.
11. “Ученый никогда не может стать философом; сам Кант не смог стать им, и оставался до конца, несмотря на врожденное влечение своего гения, в состоянии нераскрывшейся куколки. Кто думает, что, говоря так, я незаслуженно наговариваю на Канта, тот не знает, что такое философ, ибо философ – не только великий мыслитель, но, что важнее, – настоящий человек; а когда мог ученый стать настоящим человеком? Ведь он между собой и вещами ставит понятия, мнения, прошедшие времена и книги, т.е. кто в широчайшем смысле слова рожден для истории, тот не увидит вещи впервые и никогда не будет сам впервые увиденной вещью; у философа же то и другое стоит в связи, так как наибольшее поучение он приобретает из себя самого и так как он служит самому себе копией и сокращенным выражением всего мира. Если же кто созерцает себя в свете чужих мнений, то не удивительно, что он и в себе не видит ничего, кроме чужих мнений. И таковы ученые, так они живут и созерцают”. Там же. С. 117.
13. “Кажется нелепостью, чтобы человек жил ради другого человека: “нет, ради всех других людей или, по крайней мере, ради возможно большего числа <…>. Ибо вопрос гласит ведь так: каким образом твоя жизнь, жизнь отдельного человека, может приобрести высшую ценность и глубочайшее значение? При каких условиях она менее всего растрачивается даром? Разумеется, в том счучае, если ты живешь для пользы величайших и ценнейших экземпляров, а не для пользы большинства, т.е. экземпляров наименее ценнных, если брать их поодиночке. И именно этот образ мыслей нужно внедрять и укреплять в каждом молодом человеке, чтобы он смотрел на себя как на неудавшееся произведение природы, но вместе с тем как на свидетельство величайших и чудеснейших намерений этой художницы”. Там же. С. 88-89.
14. Bertrand Russel. “Ulterior motives” in Unpopulаr essays. N.Y., 1950, p. 51- 52.
16. См. Jacques Lacan. Le moi dans la theorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Le Seminaire. Paris, 1978, Livre II, p.46.
17. Андрей Синявский. Абрам Терц. Литературный процесс в России. Москва. 2003. С. 382.
18. Речь идет, разумеется, о памяти Андрея Синявского, хотя я неодолимо чувствую свою причастность к этому разговору.
Книга Аси Пекуровской “Герметический мир Иммануила Канта. По ту сторону зрения и слуха” вышла в издательстве “Алетейя” (СПб.) осенью 2008 года.